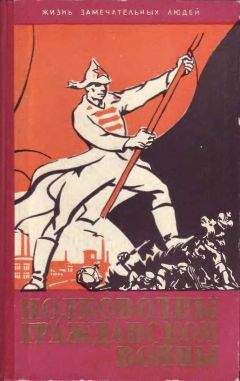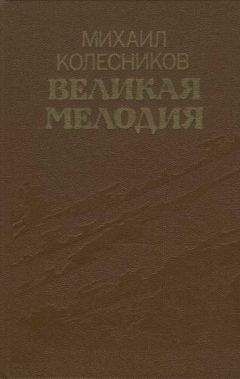Лев Гумилевский - Собачий переулок[Детективные романы и повесть]
Буров усмехнулся.
— Да, несомненно, я мог быть незаурядным ученым…
— Вы были им и есть еще! — вставил Хорохорин.
— Это после инцидента с рабфаком-то вы мне говорите?
— Тут ваша эта любовь несчастная…
— Никакой любви нет! — резко перебил Буров. — Есть острое влечение… Добра от него нет и не будет!
— Но ведь это уже ужас, и этот ужас вы сознаете… Вот этого я не понимаю! — взволнованно перебил Хорохорин.
— Не понимаете? — переспросил Буров и пристально посмотрел на него, но пустыми, что-то припоминающими и видящими дальше настоящего глазами. — Не понимаете? Я тоже не понимаю, — вдруг засмеялся он, — тоже не понимаю…
Хорохорин посмотрел на него, плохо соображая, — о чем он говорит и чему смеется.
Буров заметил это и продолжал о другом, переменив тон:
— В той простоте отношений, которую я замечаю среди молодежи у нас в университете, есть одно хорошее: независимость! Парень, сошедшийся с девушкой, не смотрит на нее как на свою собственность. Самые слова эти — гнусные слова, от которых отдает Домостроем: «Я ему отдалась» или: «Она мне принадлежала», — для них не подходят… Никто никому не отдается, никто никому не принадлежит…
Хорохорин вздернул плечи, сказал, поощренный похвалою приват-доцента: -
— Сходятся и расходятся — очень просто!
— Если бы не было этой слишком большой простоты, было бы лучше. Но они очень уж просто, а потому часто слишком рано сходятся и так же просто, слишком просто расходятся, не думая о том, что половой акт не самоцель, а лишь акт воспроизведения себе подобных… Это уж похоже на нас…
Хорохорин усмехнулся молча. В его распоряжении, как у всякого медика, было так много верных средств, думал он, устраняющих всякие неудобства подобного рода, что об этом не стоило и говорить.
Буров положил голову на ладони больших своих рук и, оперев их локтями о стол с жуткой прочностью, сказал задумчиво:
— Но еще предстоит и вам все равно борьба со старым наследственным взглядом на женщину как на принадлежащую мне. Вот тут бороться очень трудно. Гораздо скорее поступаешь наоборот: начинаешь требовать восстановления домостроевских прав. Требуешь этого просьбами, мольбами, всякими унижениями… Черт знает на что не идет человек для того, чтобы осуществить это право «моя!».
Хорохорин вздрогнул. Нельзя сказать, чтобы в путаной, полутрезвой речи Бурова для него все было ясно. Но промелькнувшее в это мгновение воспоминание о цели каких-то мелких, но острых унижений, сыпавшихся на него в этот вечер у Веры, на лестнице, у Анны, заставило его еще раз с тоской и ужасом оглядеть своего собеседника.
— Это противно, ужасно противно, я думаю, — глухо говорил тот, — когда человек не может уйти от женщины, которой он не нужен… А скольких людей я знал: у себя в кабинете за телефонами и звонками или за папками и горами бумаг они делают важное дело… Часто даже по-настоящему большие, умные люди… А вечером глупая, пустая девчонка может, издеваясь, заставить его делать все что угодно… Потом она может уйти от него, и этот умный, большой человек мечется, как сумасшедший, ходит за нею, бросает все, ползает на коленях, просит, умоляет, требует… И вы смотрите на эту девчонку и дивитесь: в чем дело? Мещаночка, нос пуговичкой… Ужас!
Он пожал плечами и содрогнулся от какой-то внутренней муки:
— Можно убить себя и ее… Или только ее. Темный круг. Паутина. Вот в нее попадаем мы, кто внутри остался еще собственником… И тут не любовь, а другое. Голое животное влечение. Оно и будит в человеке собственника. Берегитесь этого!
— Вы же сами сказали, что простота наших отношений гарантирует нас от этого…
— Если эта простота вам свойственна и вы честны с собой… Но если вы этой простотою прикрываете только, как и криками о мещанстве, то же безволие, ту же распущенность… Берегитесь, Хорохорин.
Хорохорин посмотрел на него с сожалением. В самом деле, оплывавшее, затекавшее лицо Бурова с резкими, обнажавшими душевную муку чертами и складками, теперь особенно вызывало жалость. Но с легким чувством гнева и досады за безвольную дряблость этого человека Хорохорин сказал насмешливо:
— Как же дошли вы до жизни такой?
Он хотел смягчить резкость тона и прибавил мягче:
— Как, Федор Федорович, в самом деле, а?
— Все очень просто, — задумчиво ответил Буров, — все очень просто… С того и началось, что все называли меня профессором и потому, должно быть, хотели научить меня подлинным радостям жизни… Тогда, кстати, было общим убеждением, что всякому юноше очень полезно для здоровья сходить в публичный дом… У нас в гимназии считалось, что всякий прыщик уже свидетельствует о необходимости идти к женщине… Половая распущенность считалась чем-то вроде добродетели: недаром сотни лет Дон Жуан является героем поэтических произведений… Ну, я тоже распустился, как все… К сожалению и великому нашему несчастью, у нас совсем не думали о половом воспитании ребенка и юноши!
Хорохорин кивнул головою. Буров, не скрывая волнения, переходившего в бессильное озлобление, продолжал рассказывать:
— Или, вернее, думали об этом по-своему… У нас предметом зависти был один товарищ, для которого мать пригласила хорошенькую горничную… Это, во-первых, предохраняло его от посещения проституток, а во-вторых, способствовало его успехам в классе, потому что девушка допускала к себе мальчишку только по соглашению с матерью… А мать позволяла это, только когда в дневнике у него были хорошие отметки. После единиц и двоек девушка была неприступна…
Он выпил пива и, вздохнув, улыбнулся с горечью:
— Я о себе хотел досказать — это все поучительно вам выслушать! Так вот, однажды я пошел к отцу и признался ему, что занимался онанизмом. Он выслушал меня, сунул руки в карманы и ушел, сказав: «Ну что же, идиотом будешь!»
— И все?
— Все. Больше мы с ним об этом не говорили!
Хорохорин в тупом ужасе смотрел на Бурова, а тот, вздрагивая невидимыми мускулами лица, продолжал говорить:
— Я работал вместе с нашими коллегами над прошлогодней университетской анкетой по половому вопросу и могу вас уверить, что все это не преувеличения, а самая настоящая жизнь, только тщательно от всех скрываемая! Спросите воспитателей, наблюдающих детей и юношество, спросите врачей, делающих аборты чуть не тринадцатилетним девочкам… Поговорите с врачами, специалистами по венерическим болезням… К сожалению, раз потеряв умение сдерживаться, потом уже трудно его вернуть. Когда это зашло очень далеко, вернуться почти нельзя… Вы же знаете, что девяносто процентов женщин, попадающих в психиатрические лечебницы, заболевают всякими психическими и нервными заболеваниями на половой почве… Вы хорошо знаете Веру Волкову? — неожиданно спросил он.
Хорохорин смутился, ответил не сразу.
— Нет… Как это ни странно, но только сегодня как раз я познакомился с нею…
Буров, опустив глаза, спросил очень глухо:
— И конечно, так, как все с ней знакомятся…
Хорохорин пожал плечами.
— Не знаю, как другие… — пробормотал он, а Буров, выпив залпом стакан, поставил его обратно на стол с такою силой, что он развалился без звука, как глиняный.
Он рассмеялся и позвал служителя. Тот убрал осколки и принес новый. Хорохорин молча, с изумлением смотрел на своего собеседника. Теперь, кажется, никакою силою нельзя было бы из него самого вытянуть и слова о Вере.
— Она также больна! — заметил Буров. — Я познакомился с ней у невропатолога, лечившего ее от психической травмы… Это один из видов заболеваний после аборта… Надо мною вообще тяготеет половое проклятие. Когда я сдавал экзамены на аттестат зрелости, старая нянька моя рассказала мне, что я родился непрошеным гостем. Родители меня очень упорно вытравляли, но безуспешно — я все-таки родился… Я поздно узнал об этом, иначе раньше бы освободил их от своего присутствия в семье…
Федор Федорович усмехнулся круглым глазам Хорохорина, раскрывавшимся от страха и ужаса.
— Не пугайтесь, — сухо сказал он, — не страшно! Кто не плутал из нас в Собачьем переулке! Все через него проходят… Только надо спохватиться вовремя, если уже туда попал! Как кончатся занятия, в мае— в июне, я — это решено— уезжаю на юг! Кажется, в правлении негласно это тоже решено…
— Да, как будто был такой разговор!
Хорохорин замолчал. Привычно он выпрямился, думая о своем превосходстве над этим больным человеком, но тут же вспомнил весь вечер в одно мгновение, как при синем блеске молнии, и ему стало страшно: за себя, за Бурова, за таких, как он, запутавшихся в тенетах огромного, белого, сытого полового паука, пившего даже не кровь, а мозг, лучшее в человеке — его мозг.
Сквозь сизый, прокуренный, продымленный воздух в потерявших ясность зрения глазах его лицо его собеседника расплывалось, белело и становилось похожим на то же паучье лицо. Хорохорин очнулся от звона чокавшегося об его стакан стакана, схватил его и залпом выпил.